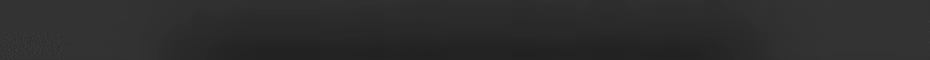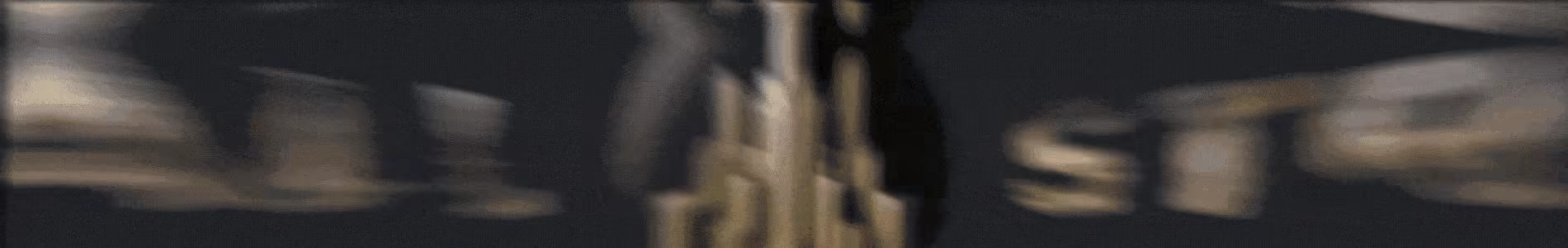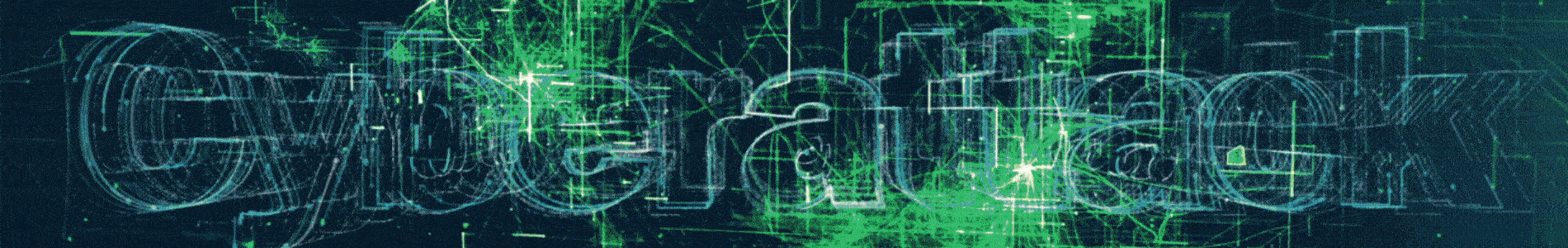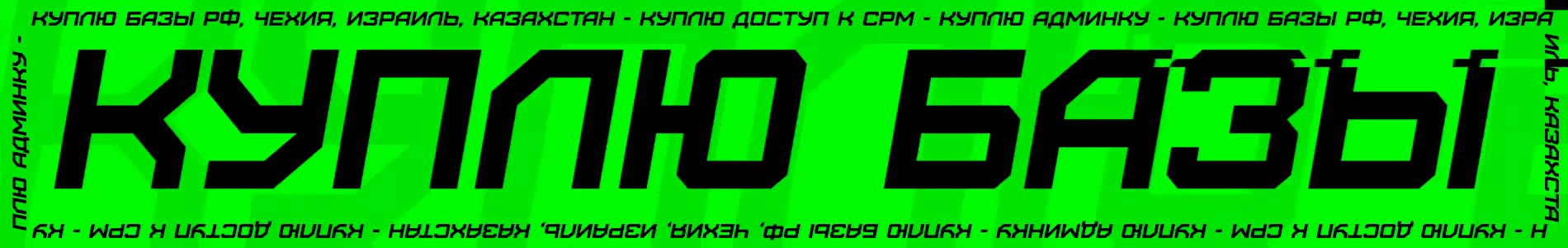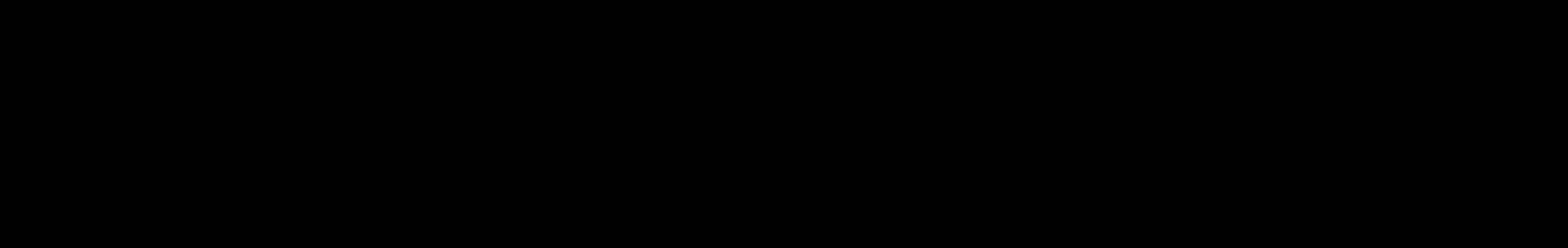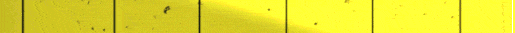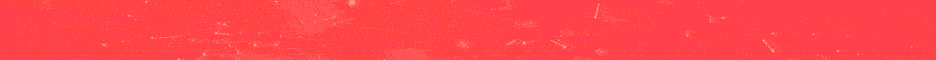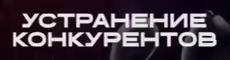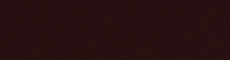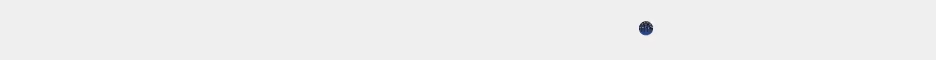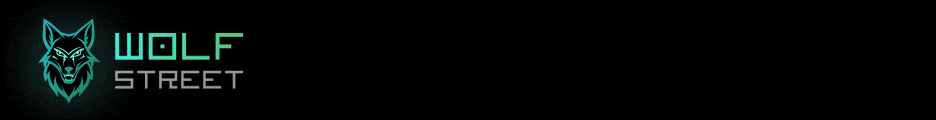Всё началось как стандартная история: ФНС выявила схему с НДС на сумму 22,85 млн рублей, связав её с использованием фиктивных счетов-фактур. Налоговая доначислила налоги, пени, штрафы. Процедура — обычная. Но затем в дело вступила прокуратура...
Весной 2025 года региональный промышленный флагман — Ульяновский завод модульных сооружений — оказался в центре громкого арбитражного разбирательства. Почти тридцать лет истории, устойчивая репутация, стабильный оборот — и вдруг: обвинения в безнравственности.
Не в мошенничестве, не в фиктивности, не в нарушении налогового законодательства. Прокуратура квалифицировала хозяйственные операции как сделки, «противные основам правопорядка и нравственности». И этого оказалось достаточно, чтобы не просто лишить компанию оборотных средств, но и включить её в опасный список: тех, чьи действия оцениваются уже не по закону, а по моральному критерию.
Всё началось как стандартная история: ФНС выявила схему с НДС на сумму 22,85 млн рублей, связав её с использованием фиктивных счетов-фактур. Налоговая доначислила налоги, пени, штрафы. Процедура — обычная. Но затем в дело вступила прокуратура. Используя статью 169 Гражданского кодекса, она потребовала признать сделки недействительными — на основании их противоречия «нравственности». Суд требования удовлетворил.
С октября 2022 года прокуратура получила новые полномочия: вмешиваться в хозяйственные споры — как полноценный истец. Сделки, контракты, валютные операции, тендеры — теперь в зоне её контроля. И не просто с правовой, но и с «этической» точки зрения.
Главный инструмент — статья 169 ГК РФ. До недавнего времени она считалась экзотикой. Теперь — это основа новой судебной практики. Если сделка признана «противной основам правопорядка или нравственности» — она подлежит уничтожению. Деньги взыскиваются в доход государства. Возврата нет.
Механизм работает чётко: ФНС находит нарушения, прокуратура подключается, формулирует «моральную» претензию, суд выносит решение. Результат: бизнес теряет и деньги, и репутацию. Потому что безнравственность — это уже не ошибка. Это обвинение в общественной неприемлемости.
Ульяновский кейс — лишь одно звено. В 2023 году аналогичное решение вынес Арбитражный суд Чувашии в отношении компании «Трио плюс». Камский пружинный завод — дважды. В 2024 году в Петербурге транспортная компания лишилась 1,8 млн рублей: клиент оплатил напрямую на единый налоговый счёт — этого оказалось достаточно, чтобы прокуратура сочла поведение «подозрительным».
Парадокс в том, что статья 169 не ограничена сроком давности. Сделки 10-летней давности могут быть пересмотрены. Всё, что раньше считалось допустимым, теперь — предмет для оценки на соответствие моральным принципам, которые никто чётко не формулировал.
Механика часто повторяется: суд взыскивает в доход государства всю сумму сделки, даже если по ней уже были уплачены штрафы и доначислены налоги. Иногда взыскивается НДС — дважды. Сначала налоговая взыскивает как недоимку. Затем — арбитраж, при признании сделки ничтожной. Финансовая логика разрушается. Бизнес платит дважды — за одну и ту же операцию.
Это не просто перегиб. Это — нарушение базового правового принципа: запрета повторного наказания за одно и то же деяние. Но в текущей практике — это норма. Суды не останавливаются.
Суд становится этическим трибуналом. Прокуроры — новыми интерпретаторами нравственности. Но кто определяет, где заканчивается хозяйственный риск и начинается безнравственность?
В российском законодательстве нет определений ни «основ правопорядка», ни «нравственности». Но именно на них строятся обвинения. Практика становится опасной: она выходит за пределы правового поля. Там, где нет норм, появляется субъективное толкование. А в его основе — недоверие к бизнесу как к социальному институту.
Применение статьи 169 в её новом, расширенном виде создаёт системный риск:
Ситуация с Ульяновским заводом может стать точкой невозврата. До сих пор речь шла о фискальном давлении. Теперь — о нравственном отборе. Сегодня в зоне риска — откровенные схемы. Завтра — спорные. Послезавтра — просто неудачные. Прокуроры больше не ищут нарушение закона. Они ищут то, что «не соответствует духу».
И когда найдут — взыщут. Полностью. В доход бюджета. В обход здравого смысла.
Если раньше бизнес работал по букве закона, сегодня ему приходится соответствовать ещё и неписанному кодексу нравственности. Только никто не знает, что в нём написано.
В эпоху, когда мораль становится инструментом фискальной политики, бизнесу остаётся выбирать между правом и догадкой. Потому что даже самая законная сделка может оказаться безнравственной. И тогда — всё, что вы строили, всё, что вы заработали — может быть изъято. Во имя морали. И в пользу бюджета.
Сделка с совестью
Весной 2025 года региональный промышленный флагман — Ульяновский завод модульных сооружений — оказался в центре громкого арбитражного разбирательства. Почти тридцать лет истории, устойчивая репутация, стабильный оборот — и вдруг: обвинения в безнравственности.
Не в мошенничестве, не в фиктивности, не в нарушении налогового законодательства. Прокуратура квалифицировала хозяйственные операции как сделки, «противные основам правопорядка и нравственности». И этого оказалось достаточно, чтобы не просто лишить компанию оборотных средств, но и включить её в опасный список: тех, чьи действия оцениваются уже не по закону, а по моральному критерию.
Всё началось как стандартная история: ФНС выявила схему с НДС на сумму 22,85 млн рублей, связав её с использованием фиктивных счетов-фактур. Налоговая доначислила налоги, пени, штрафы. Процедура — обычная. Но затем в дело вступила прокуратура. Используя статью 169 Гражданского кодекса, она потребовала признать сделки недействительными — на основании их противоречия «нравственности». Суд требования удовлетворил.
Прокуратура, которая читает моральные лекции
С октября 2022 года прокуратура получила новые полномочия: вмешиваться в хозяйственные споры — как полноценный истец. Сделки, контракты, валютные операции, тендеры — теперь в зоне её контроля. И не просто с правовой, но и с «этической» точки зрения.
Главный инструмент — статья 169 ГК РФ. До недавнего времени она считалась экзотикой. Теперь — это основа новой судебной практики. Если сделка признана «противной основам правопорядка или нравственности» — она подлежит уничтожению. Деньги взыскиваются в доход государства. Возврата нет.
Механизм работает чётко: ФНС находит нарушения, прокуратура подключается, формулирует «моральную» претензию, суд выносит решение. Результат: бизнес теряет и деньги, и репутацию. Потому что безнравственность — это уже не ошибка. Это обвинение в общественной неприемлемости.
От налогов к морали — один шаг в бездну
Ульяновский кейс — лишь одно звено. В 2023 году аналогичное решение вынес Арбитражный суд Чувашии в отношении компании «Трио плюс». Камский пружинный завод — дважды. В 2024 году в Петербурге транспортная компания лишилась 1,8 млн рублей: клиент оплатил напрямую на единый налоговый счёт — этого оказалось достаточно, чтобы прокуратура сочла поведение «подозрительным».
Парадокс в том, что статья 169 не ограничена сроком давности. Сделки 10-летней давности могут быть пересмотрены. Всё, что раньше считалось допустимым, теперь — предмет для оценки на соответствие моральным принципам, которые никто чётко не формулировал.
Двойное наказание: этика по цене золота
Механика часто повторяется: суд взыскивает в доход государства всю сумму сделки, даже если по ней уже были уплачены штрафы и доначислены налоги. Иногда взыскивается НДС — дважды. Сначала налоговая взыскивает как недоимку. Затем — арбитраж, при признании сделки ничтожной. Финансовая логика разрушается. Бизнес платит дважды — за одну и ту же операцию.
Это не просто перегиб. Это — нарушение базового правового принципа: запрета повторного наказания за одно и то же деяние. Но в текущей практике — это норма. Суды не останавливаются.
Моральный трибунал XXI века
Суд становится этическим трибуналом. Прокуроры — новыми интерпретаторами нравственности. Но кто определяет, где заканчивается хозяйственный риск и начинается безнравственность?
В российском законодательстве нет определений ни «основ правопорядка», ни «нравственности». Но именно на них строятся обвинения. Практика становится опасной: она выходит за пределы правового поля. Там, где нет норм, появляется субъективное толкование. А в его основе — недоверие к бизнесу как к социальному институту.
Риск неопределённости и чрезмерные потери
Применение статьи 169 в её новом, расширенном виде создаёт системный риск:
- Двойная ответственность. Бизнес наказывается дважды: налоговые санкции плюс взыскание всей суммы сделки. Правовой конфликт с принципом однократного наказания игнорируется.
- Повторное взыскание НДС. Дважды взыскиваемая сумма налогов нарушает элементарную финансовую логику. В результате — потери кратно больше полученной выгоды.
- Отсутствие срока давности. Сделки, совершённые много лет назад, могут быть атакованы сегодня. Аргумент «все так делали» не работает. Даже если практика была признанной и массовой.
Что делать? Как минимизировать риски
- Проверяйте контрагентов. Даже реальный договор может быть аннулирован, если партнёр признан «техническим». Важно фиксировать весь ход заключения сделки: предложения, переговоры, закупочные процедуры, сравнение условий.
- Документируйте исполнение. Соблюдайте договорные обязательства. Фиксируйте каждый этап: акты, фото, пропуска, доказательства отгрузки или выполнения. Без этого суд может признать сделку мнимой.
- Следите за судебной практикой. Прокуратура расширяет сферу применения статьи 169. Даже корректные сделки могут попасть под удар, если нет должной доказательной базы. Превентивные меры — ваш щит.
Развязка: кто следующий?
Ситуация с Ульяновским заводом может стать точкой невозврата. До сих пор речь шла о фискальном давлении. Теперь — о нравственном отборе. Сегодня в зоне риска — откровенные схемы. Завтра — спорные. Послезавтра — просто неудачные. Прокуроры больше не ищут нарушение закона. Они ищут то, что «не соответствует духу».
И когда найдут — взыщут. Полностью. В доход бюджета. В обход здравого смысла.
Финал. Вопрос без ответа
Если раньше бизнес работал по букве закона, сегодня ему приходится соответствовать ещё и неписанному кодексу нравственности. Только никто не знает, что в нём написано.
В эпоху, когда мораль становится инструментом фискальной политики, бизнесу остаётся выбирать между правом и догадкой. Потому что даже самая законная сделка может оказаться безнравственной. И тогда — всё, что вы строили, всё, что вы заработали — может быть изъято. Во имя морали. И в пользу бюджета.
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация